Углехимия или смерть
Сможет ли российский уголь стать товаром
с высокой добавленной стоимостью
с высокой добавленной стоимостью
Каждый раз, когда уголь падает в цене, вспоминается углехимия. Только с новым витком цикла про неё также благополучно забывают. Но однажды настанет момент, когда забыть не удастся. И этот момент, возможно, настаёт сейчас.
Единственно, в чём Россия на первом месте по запасам, и этих запасов как минимум на 500 лет, — это уголь. Нынешняя стратегия заключается в том, чтобы возить его на экспорт, пока есть спрос, по любым ценам. Оптимистично предполагается, что добыча будет увеличиваться и экспорт вместе с ней.
Но российский уголь уже сейчас в таких количествах оказался не нужен на глобальном рынке, а стоимость транспортировки на фоне падения цен лишает экспорт смысла. Решения никто не видит, но углехимия на всякий случай упоминается в Энергетической стратегии целых 6 раз на 107 страниц.
«В комплекс первоочередных мер по решению задачи переориентации экспорта угля на новые рынки входят: <...> создание широкой линейки конкурентоспособных продуктов из угля и отходов его обогащения, востребованных в сельском хозяйстве, природоохранной деятельности, медицине, электронной промышленности, а также стимулирование переработки угля, в том числе проектов углехимии (при условии подтверждения их экономической эффективности)», — сказано в документе.
Но действительно ли это может сработать? По словам эксперта по энергетике Кирилла Родионова, углехимия — сложная и далёкая от российских реалий тема. Более того, в нашей стране углехимия не нужна: здесь достаточно нефти и газа. Отдельный вопрос — в санкциях на импорт оборудования.
Единственно, в чём Россия на первом месте по запасам, и этих запасов как минимум на 500 лет, — это уголь. Нынешняя стратегия заключается в том, чтобы возить его на экспорт, пока есть спрос, по любым ценам. Оптимистично предполагается, что добыча будет увеличиваться и экспорт вместе с ней.
Но российский уголь уже сейчас в таких количествах оказался не нужен на глобальном рынке, а стоимость транспортировки на фоне падения цен лишает экспорт смысла. Решения никто не видит, но углехимия на всякий случай упоминается в Энергетической стратегии целых 6 раз на 107 страниц.
«В комплекс первоочередных мер по решению задачи переориентации экспорта угля на новые рынки входят: <...> создание широкой линейки конкурентоспособных продуктов из угля и отходов его обогащения, востребованных в сельском хозяйстве, природоохранной деятельности, медицине, электронной промышленности, а также стимулирование переработки угля, в том числе проектов углехимии (при условии подтверждения их экономической эффективности)», — сказано в документе.
Но действительно ли это может сработать? По словам эксперта по энергетике Кирилла Родионова, углехимия — сложная и далёкая от российских реалий тема. Более того, в нашей стране углехимия не нужна: здесь достаточно нефти и газа. Отдельный вопрос — в санкциях на импорт оборудования.
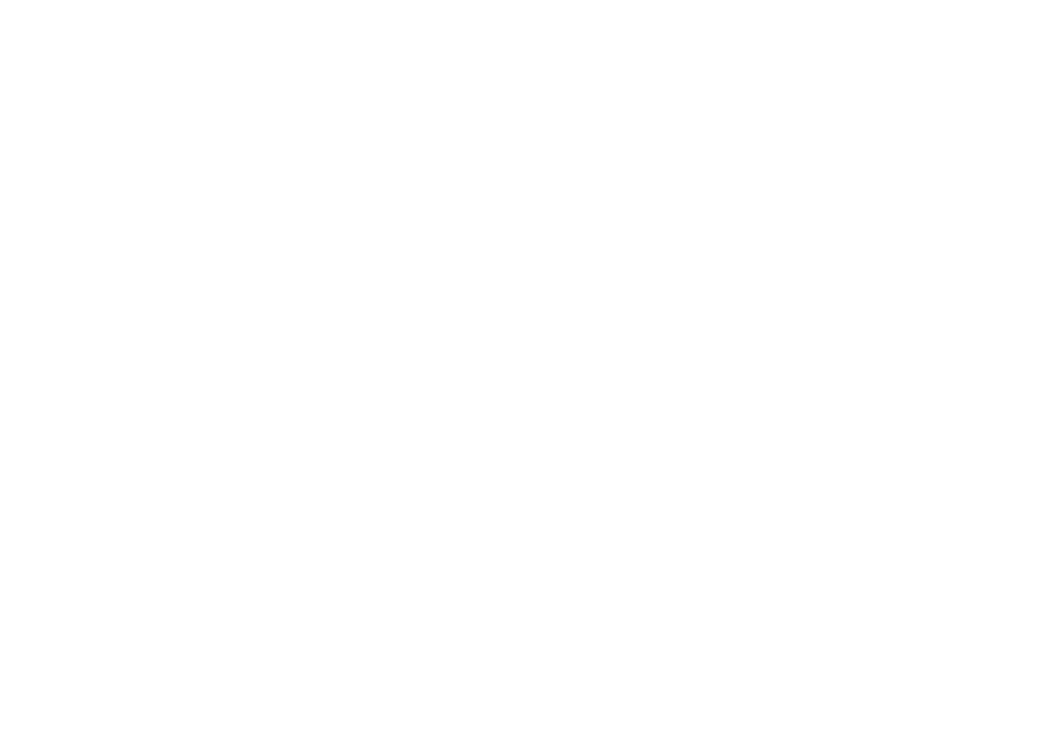
Кирилл Родионов
«На мой взгляд, это точно не сработает. Даже если не будет санкций, инвесторы будут шарахаться от этой темы, поскольку углехимия токсична для инвесторов. Маржа будет ещё меньше, чем с экспортом угля. Вдобавок в России по ряду позиций профицит нефтехимических мощностей на внутреннем рынке. Да, углехимия будет портить им экологическую отчётность, на которую всё равно смотрят инвесторы, даже несмотря на частичное нивелирование экоповестки», — пояснил в беседе с vgudok.com Кирилл Родионов.
По его словам, на сегодняшний день, по сути, единственная страна, которая всерьёз развивает углехимию, Китай, где есть дефицит собственных углеводородов. Действительно, в Поднебесной вкладывают серьёзные средства в это направление. Из недавних новостей: крупнейшая в стране China Energy Investment Corp планирует вложить $24 млрд в строительство завода по переработке угля в жидкое топливо, которое, в свою очередь, будет поставляться на местные нефтехимические предприятия.
По его словам, на сегодняшний день, по сути, единственная страна, которая всерьёз развивает углехимию, Китай, где есть дефицит собственных углеводородов. Действительно, в Поднебесной вкладывают серьёзные средства в это направление. Из недавних новостей: крупнейшая в стране China Energy Investment Corp планирует вложить $24 млрд в строительство завода по переработке угля в жидкое топливо, которое, в свою очередь, будет поставляться на местные нефтехимические предприятия.
Причём строят китайцы быстро:
ввод в эксплуатацию ожидается уже в 2027 году
ввод в эксплуатацию ожидается уже в 2027 году
По приблизительным оценкам, к 2030 году спрос на глубоко переработанный уголь в стране составит 152 млн тонн. Однако стоит напомнить, что развивает углехимию наш восточный партнёр очень давно.
По словам исполнительного директора Института экономики роста им. П.А. Столыпина Антона Свириденко, Китай этим занимается с 1950-х, а бум углехимии пришёлся на 1980–1990-е. На сегодняшний день в стране производят из угля более 50% мирового метанола, а сейчас фокус сместился на экологические технологии (улавливание CO₂) и высокотехнологичную продукцию — такую, как углеродные волокна и нанотрубки.
По словам исполнительного директора Института экономики роста им. П.А. Столыпина Антона Свириденко, Китай этим занимается с 1950-х, а бум углехимии пришёлся на 1980–1990-е. На сегодняшний день в стране производят из угля более 50% мирового метанола, а сейчас фокус сместился на экологические технологии (улавливание CO₂) и высокотехнологичную продукцию — такую, как углеродные волокна и нанотрубки.
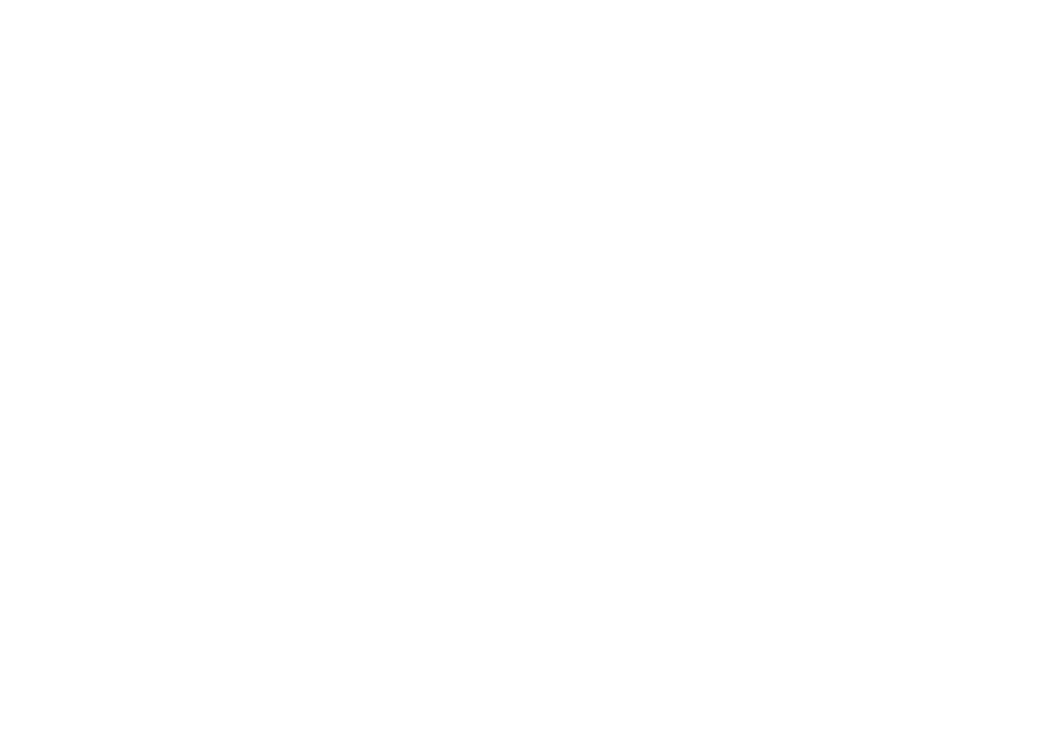
Антон Свириденко
Чуть больше года назад эксперты Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) приводили подробный анализ доклада Оксфордского института энергетических исследований «Перспективы китайской угольно-химической промышленности в мире растущих ограничений на выбросы СО2». Российские специалисты, в частности, отмечали, что огромные угольные запасы нашей страны могут позволить повторить успех Китая. Но опять же сколько времени, средств и желания на это понадобится?
По словам Антона Свириденко, здесь «нужны общие усилия, нужна программа, нужны цели и нужно, чтобы компании и государство взяли на себя взаимные обязательства».
«Углехимия — перспективное направление, но нужны целенаправленные усилия и понимание как бизнеса, так и государства, что необходима конкретная комплексная программа углехимии, с инвестициями, с научно-исследовательской базой. Можно посмотреть опыт Китая, там углехимия набирает ход. И если сначала это дорого, то по мере масштабирования технологии удешевляются», — отметил г-н Свириденко.
По словам Антона Свириденко, здесь «нужны общие усилия, нужна программа, нужны цели и нужно, чтобы компании и государство взяли на себя взаимные обязательства».
«Углехимия — перспективное направление, но нужны целенаправленные усилия и понимание как бизнеса, так и государства, что необходима конкретная комплексная программа углехимии, с инвестициями, с научно-исследовательской базой. Можно посмотреть опыт Китая, там углехимия набирает ход. И если сначала это дорого, то по мере масштабирования технологии удешевляются», — отметил г-н Свириденко.
При этом продукция угольно-химической промышленности, уточнил собеседник vgudok.com, подходит и для внутреннего пользования, и для экспорта
Уголь может быть сырьём для производства более 400 видов товаров: от синтетического топлива и водорода до углеродных нанотрубок, используемых в высокотехнологичных отраслях (космос, военная промышленность, строительство, электроника), набирают ход в других странах подземная газификация угля, производство синтетического топлива и метанола, гидрогенизация угля.
Конечно, пока стоимость синтетического топлива выше, но в других сегментах цены могут быть вполне конкурентоспособными. При этом на данный момент складывается ощущение, что необходимо всё это сделать с нуля и совсем непонятны необходимые объёмы инвестиций.
«Для России углехимия — простой стратегический вопрос. На фоне недостаточной конкурентоспособности российского угля и сложностей с вывозом нужно сохранить отрасль и рабочие места, нужно не оставить пустым потенциал тех регионов, где сосредоточена угольная добыча, заменить традиционную добычу угля новым экономическим смыслом», — добавил г-н Свириденко.
Конечно, пока стоимость синтетического топлива выше, но в других сегментах цены могут быть вполне конкурентоспособными. При этом на данный момент складывается ощущение, что необходимо всё это сделать с нуля и совсем непонятны необходимые объёмы инвестиций.
«Для России углехимия — простой стратегический вопрос. На фоне недостаточной конкурентоспособности российского угля и сложностей с вывозом нужно сохранить отрасль и рабочие места, нужно не оставить пустым потенциал тех регионов, где сосредоточена угольная добыча, заменить традиционную добычу угля новым экономическим смыслом», — добавил г-н Свириденко.
Упрощённая технологическая схема углехимической промышленности Китая
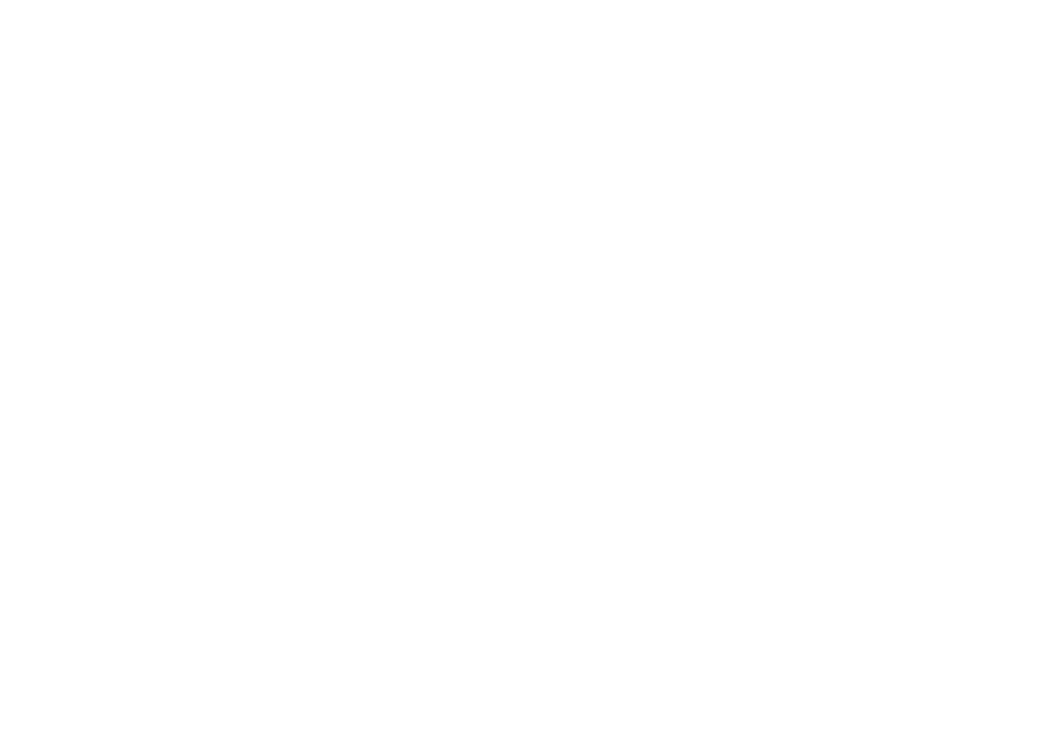
Источник: The Oxford Institute for Energy Studies
Если возвращаться к Китаю и построенной им углехимической империи, то, не вдаваясь в детали, отрасль делится на традиционные и современные угольные химикаты. Первые — это, в основном, производство кокса, аммиака и мочевины из угля, а также поливинилхлорида (ПВХ) с использованием карбида кальция (CaC2). Вторые начинаются с крупномасштабной газификации угля с получением синтез-газа, который затем используется для подачи водорода при гидрировании угля и синтезе жидких топлив, включая непрямое превращение угля в жидкость (CTL).
К современным угольным химикатам также относятся CTG (преобразование угля в газ), CTO (превращение угля в олефин), CtEG (превращение угля в этиленгликоль), CTA (превращение угля в ароматические углеводороды). По данным Китайской национальной угольной ассоциации (CNCA), в 2025 году производственные мощности CTL, CTG, CTO и CtEG должны составить 12 млн тонн, 15 млрд кубометров, 15 млн тонн и 8 млн тонн в год соответственно.
К современным угольным химикатам также относятся CTG (преобразование угля в газ), CTO (превращение угля в олефин), CtEG (превращение угля в этиленгликоль), CTA (превращение угля в ароматические углеводороды). По данным Китайской национальной угольной ассоциации (CNCA), в 2025 году производственные мощности CTL, CTG, CTO и CtEG должны составить 12 млн тонн, 15 млрд кубометров, 15 млн тонн и 8 млн тонн в год соответственно.
Производственные мощности отдельных современных углехимических компаний в Китае в 2015–2020 гг.
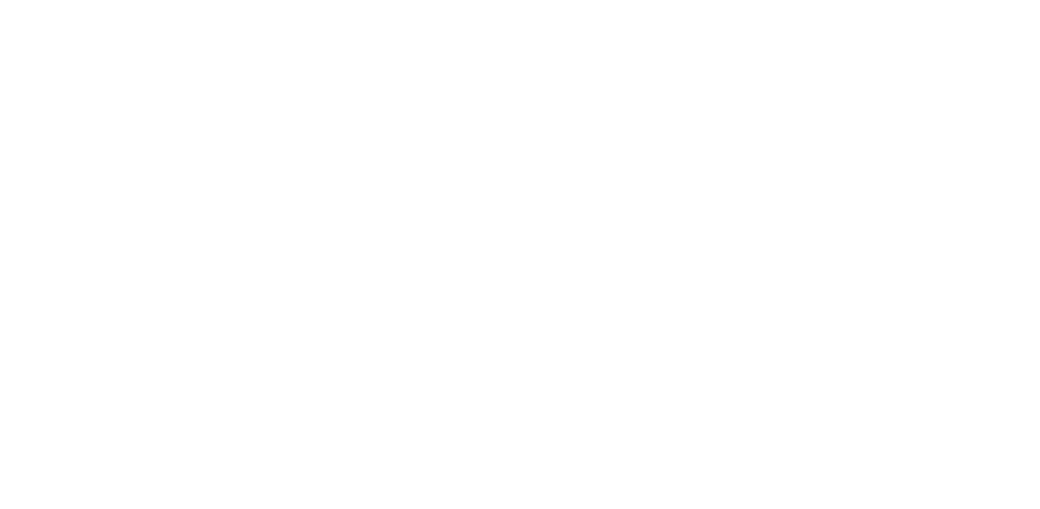
Источник: The Oxford Institute for Energy Studies
Кроме того, уголь служит основным сырьём для получения водорода, и Китай является крупнейшим производителем и потребителем водорода в мире. Причём в производстве последнего преобладает уголь, на долю которого в 2020 году приходилось 72% национального производства. 14% водорода создают из природного газа и 10% из нефти. Себестоимости выпуска чёрного водорода, получаемого из угля, может составлять менее 10 юаней/кг. Для сравнения, затраты на производство возобновляемого водорода оцениваются в диапазоне от 24,04 до 70,47 юаней/кг.
Есть ли риски при повторении
китайского сценария в России? Конечно, есть.
китайского сценария в России? Конечно, есть.
Как отмечал в беседе с vgudok.com Кирилл Родионов, экологическую повестку никто не отменял, несмотря на все оговорки. Продукция углехимии часто включает в себя процессы, требующие большого количества воды и сопровождающиеся значительным сбросом сточных вод. Кроме того, экономика углехимических проектов, по крайней мере, в Китае чувствительна как к внутренним ценам на уголь, так и к мировым ценам на нефть.
Так, безубыточная стоимость нефти марки Brent для проектов CTL составляет от 55 до 65 долларов за баррель. Когда мировые цены на нефть превышают 50, 55 и 60 долларов за баррель соответственно, проекты CTO, CtEG и CTA становятся экономически конкурентоспособными.
Эксперты ИРТТЭК отмечали, что «цифры оксфордского доклада наглядно показывают перспективы построения углехимических мощностей в России на месте крупных месторождений вместо примитивного экспорта угля по железной дороге к углехимическим предприятиям Китая. Этот вопрос тем более актуален, что добыча угля в Китае испытывает колоссальные проблемы».
Кроме того, год назад казалось, что Россия могла бы сохранить лидерство в экспорте жидких углеводородов, всё большая часть которых может производиться из дешёвого угля при растущей себестоимости добычи нефти в арктической зоне. В апреле 2025 года ситуация кажется совсем иной, так как собственную нефть наша страна тоже не может полностью реализовать, не говоря уже о мифическом топливе из угля.
Так, безубыточная стоимость нефти марки Brent для проектов CTL составляет от 55 до 65 долларов за баррель. Когда мировые цены на нефть превышают 50, 55 и 60 долларов за баррель соответственно, проекты CTO, CtEG и CTA становятся экономически конкурентоспособными.
Эксперты ИРТТЭК отмечали, что «цифры оксфордского доклада наглядно показывают перспективы построения углехимических мощностей в России на месте крупных месторождений вместо примитивного экспорта угля по железной дороге к углехимическим предприятиям Китая. Этот вопрос тем более актуален, что добыча угля в Китае испытывает колоссальные проблемы».
Кроме того, год назад казалось, что Россия могла бы сохранить лидерство в экспорте жидких углеводородов, всё большая часть которых может производиться из дешёвого угля при растущей себестоимости добычи нефти в арктической зоне. В апреле 2025 года ситуация кажется совсем иной, так как собственную нефть наша страна тоже не может полностью реализовать, не говоря уже о мифическом топливе из угля.
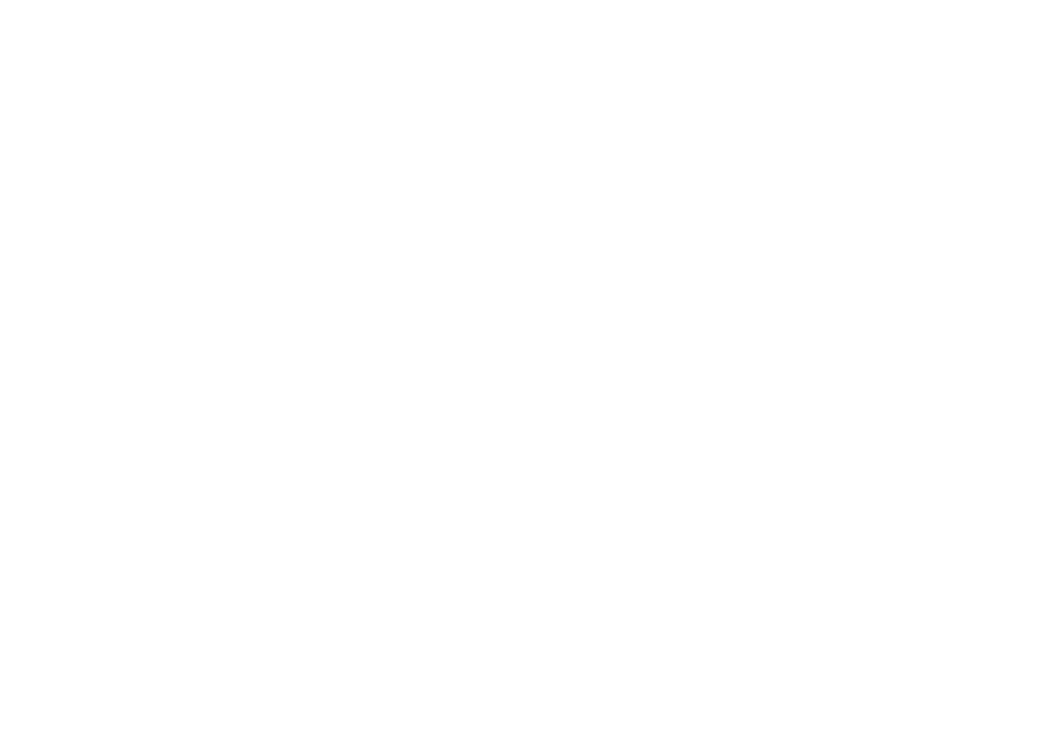
Виталий Манкевич
Председатель Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич в беседе с vgudok.com усомнился в возможности сделать из российского угля товар высокого передела с высокой добавленной стоимостью.
«Я думаю, что для этого нужны инвестиции в переработку, но пока таких возможностей нет, разве что в отдалённой перспективе и в кооперации с другими странами, которые готовы делиться технологиями, которые готовы делиться специалистами, которые готовы организовать производство на территории РФ. Пока таких немного. Речь прежде всего идёт о Китае. Если говорить о Китае, то для развития нашей углехимии можно наладить сотрудничество с партнёрами из КНР, но для этого нужны, конечно, инициативы с нашей стороны.
«Я думаю, что для этого нужны инвестиции в переработку, но пока таких возможностей нет, разве что в отдалённой перспективе и в кооперации с другими странами, которые готовы делиться технологиями, которые готовы делиться специалистами, которые готовы организовать производство на территории РФ. Пока таких немного. Речь прежде всего идёт о Китае. Если говорить о Китае, то для развития нашей углехимии можно наладить сотрудничество с партнёрами из КНР, но для этого нужны, конечно, инициативы с нашей стороны.
Мы видим, что китайские партнёры
открыты для сотрудничества
открыты для сотрудничества
Автомобильная сфера, кстати, пример того, как китайские партнёры готовы, особенно в «нечувствительных сферах», делиться технологиями и создавать производство, направлять специалистов, поставлять нужное оборудование. Я думаю, что здесь в кооперации с Китаем не будет особых проблем. Но нужно китайской стороне изложить наши запросы, представить им выгодные предложения, потому что у любой экономической инициативы должна быть взаимная выгода», — отметил г-н Манкевич.
Однако реальные шаги в углехимии — это вопрос даже не ближайших 10–15 лет, потому что в стране сейчас нет инфраструктуры для производства. Например, председатель Верховного Совета Республики Хакасия Сергей Сокол в конце февраля 2025 года заявил, что «углехимия — это очень важное для нас направление, которое, к сожалению, по разным причинам, пока не реализовано».
«И мы должны предложить систему мероприятий для наших угольщиков, чтобы мы к этому перешли. Особенно актуально в свете анонсированной Президентом новой программы, национального проекта «Новые технологии и химия». Очень хорошая возможность для нас получить финансирование на эти мероприятия», — сказал г-н Сокол.
На фоне сокращения экспорта хакасского угля на 50% в январе-феврале 2025-го к 2024-му и общего сокращения добычи по итогам года на 6%, до 25 млн тонн, угольщики недоплатили в бюджет республики 6 млрд рублей, а региону грозит разорение. Здесь сложно не вспомнить об углехимии, о которой было написано в программе развития промышленности в 2017 году, но в итоге ничего так и не было сделано. Почти разорившиеся угольщики за полгода-год завод не построят при всём желании. Кстати, важно, что около трёх четвертей углехимических мощностей в Китае принадлежит государственным предприятиям. В России же от профильных министерств и ведомств инициатив по развитию углехимии не поступало.
Однако реальные шаги в углехимии — это вопрос даже не ближайших 10–15 лет, потому что в стране сейчас нет инфраструктуры для производства. Например, председатель Верховного Совета Республики Хакасия Сергей Сокол в конце февраля 2025 года заявил, что «углехимия — это очень важное для нас направление, которое, к сожалению, по разным причинам, пока не реализовано».
«И мы должны предложить систему мероприятий для наших угольщиков, чтобы мы к этому перешли. Особенно актуально в свете анонсированной Президентом новой программы, национального проекта «Новые технологии и химия». Очень хорошая возможность для нас получить финансирование на эти мероприятия», — сказал г-н Сокол.
На фоне сокращения экспорта хакасского угля на 50% в январе-феврале 2025-го к 2024-му и общего сокращения добычи по итогам года на 6%, до 25 млн тонн, угольщики недоплатили в бюджет республики 6 млрд рублей, а региону грозит разорение. Здесь сложно не вспомнить об углехимии, о которой было написано в программе развития промышленности в 2017 году, но в итоге ничего так и не было сделано. Почти разорившиеся угольщики за полгода-год завод не построят при всём желании. Кстати, важно, что около трёх четвертей углехимических мощностей в Китае принадлежит государственным предприятиям. В России же от профильных министерств и ведомств инициатив по развитию углехимии не поступало.
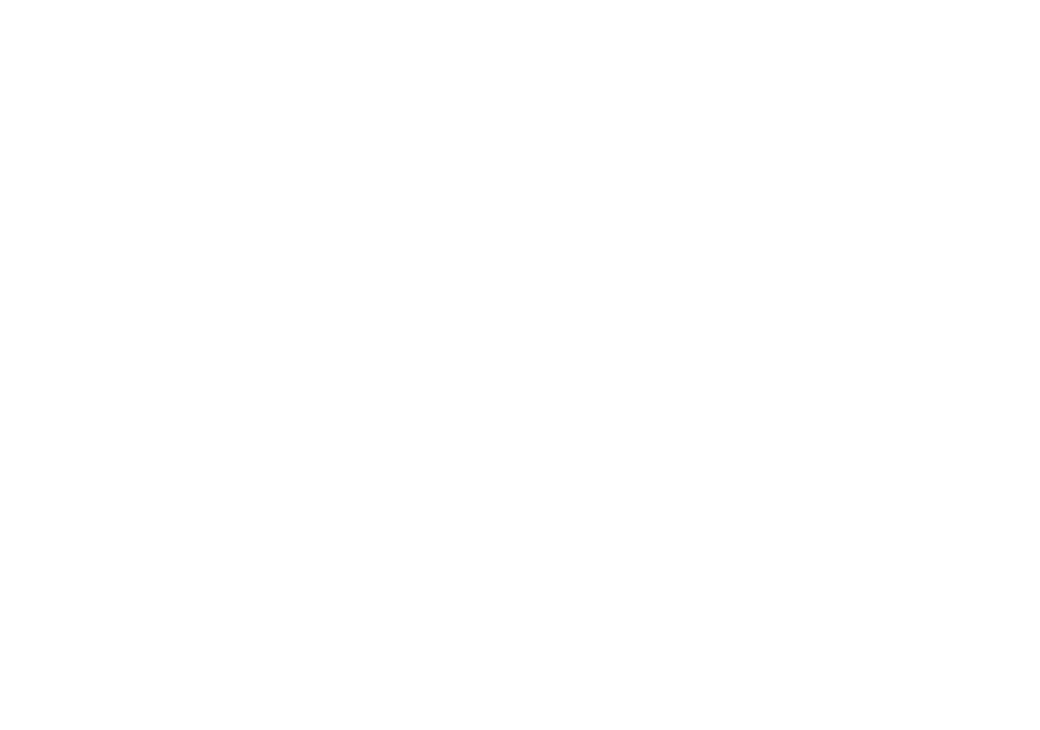
Впрочем, странная фиксация именно на угольно-химической промышленности — довольно сложной отрасли — не до конца понятна. Например, в той же Хакасии можно построить металлургический комбинат по переработке местных железных руд, для плавки которых нужен кокс.
Тепло от производства кокса можно утилизировать для выработки тепловой и электрической энергии, а каменноугольная смола с добавлением мелко размолотого жирного или газового угля поддаётся гидрокрекингу с производством моторного топлива.
К тому же можно и не пытаться догнать опережающую нас на 70–80 лет китайскую углехимию, а рассмотреть примерно такие же дорогие, но потенциально куда более перспективные и привлекательные технологии. Индонезия уже начала искать в угле редкоземельные металлы. Американские, австралийские, китайские и турецкие учёные признают, что потенциал у технологии есть. И это несмотря на то, что пока что извлекать РЗМ из угольной золы объективно сложнее и дороже, чем добывать традиционным путём. А на старте всё всегда дорого и сложно, но зачем нам жидкое топливо из угля, когда у нас и так полно нефти? Другое дело с «редкозёмами»: спрос на них есть во всём мире, а предложение сформировано на 50% в Китае.
Тепло от производства кокса можно утилизировать для выработки тепловой и электрической энергии, а каменноугольная смола с добавлением мелко размолотого жирного или газового угля поддаётся гидрокрекингу с производством моторного топлива.
К тому же можно и не пытаться догнать опережающую нас на 70–80 лет китайскую углехимию, а рассмотреть примерно такие же дорогие, но потенциально куда более перспективные и привлекательные технологии. Индонезия уже начала искать в угле редкоземельные металлы. Американские, австралийские, китайские и турецкие учёные признают, что потенциал у технологии есть. И это несмотря на то, что пока что извлекать РЗМ из угольной золы объективно сложнее и дороже, чем добывать традиционным путём. А на старте всё всегда дорого и сложно, но зачем нам жидкое топливо из угля, когда у нас и так полно нефти? Другое дело с «редкозёмами»: спрос на них есть во всём мире, а предложение сформировано на 50% в Китае.
Там же перерабатывается около 90% этих металлов
На конференции «Редкие и редкоземельные металлы 2025» ведущий инженер Института Карпинского Евгений Шишов отметил, что в российском твёрдом топливе действительно есть высокий редкометалльный потенциал. В них зафиксировано несколько типов концентраций металлов из группы редких: как значимые для промышленной разработки сейчас могут рассматривать германиевые, скандиевые, редкоземельные, галлиевые. Также есть угли с комплексным содержанием РЗМ, в частности ниобия, тантала, циркония, гафния, иттрия и галлия.
К сожалению, пока никаких других деталей не озвучивается, как, впрочем, и рентабельность таких производств. В любом случае для развития направления требуются большие инвестиции и геолого-экономический анализ перспективных месторождений. Однако и РЗМ, и углехимия, несмотря на отсутствие хоть каких-то наработок, всё равно выглядят намного адекватнее тех мер спасения отрасли, которые предлагаются сегодня.
К сожалению, пока никаких других деталей не озвучивается, как, впрочем, и рентабельность таких производств. В любом случае для развития направления требуются большие инвестиции и геолого-экономический анализ перспективных месторождений. Однако и РЗМ, и углехимия, несмотря на отсутствие хоть каких-то наработок, всё равно выглядят намного адекватнее тех мер спасения отрасли, которые предлагаются сегодня.
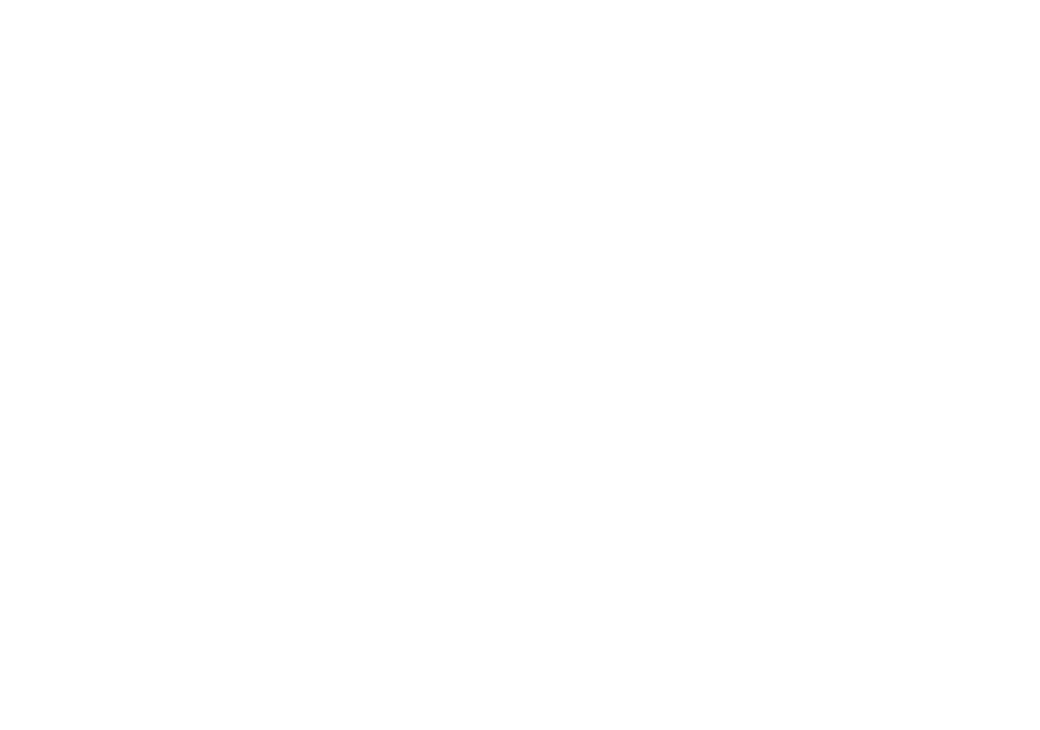
«Российской угольной отрасли нужен не бюрократический компромисс, а решения, которые бы обеспечили адаптацию к долгосрочным трендам, которые нельзя компенсировать за счёт льгот, субсидий и квот. Нужно закрывать убыточные и низкорентабельные шахты, на долю которых приходится лишь четверть российской угледобычи; владельцам шахт нужно выплачивать компенсации в размере пятилетней чистый прибыли (без учёта «ковидного» 2020 года); а работников — переселять в регионы с растущей экономикой. Эти меры облегчат структурный сдвиг, в результате которого география отрасли сместится на восток, а в структуре добычи будет расти доля коксующегося угля, спрос на который будет более устойчивым, чем на энергетический уголь», — отметил Кирилл Родионов.
Какой бы подход ни выбрало государство (а спасать целую отрасль, несмотря на попытки переложить ответственность на РЖД, придётся именно федеральным институтам), стоить это будет дорого. Но тут главное не забывать, что скупой платит дважды, и лучше инвестировать сегодня, чем пытаться продать дешевеющий и теряющий популярность уголь завтра. Ведь Китай не просто так развивает свои технологии переработки угля — мы снова рискуем превратиться в сырьевой придаток. А пока эксперты пребывают в скепсисе и ищут альтернативные способы использования угля, время уходит. Неужели всё дело только в руководящей и направляющей роли коммунистической партии?
Экспертные мнения авторитетных специалистов о транспорте и логистике вы найдете в Telegram-канале медиаплатформы ВГУДОК — @Vgudok.PRO
Какой бы подход ни выбрало государство (а спасать целую отрасль, несмотря на попытки переложить ответственность на РЖД, придётся именно федеральным институтам), стоить это будет дорого. Но тут главное не забывать, что скупой платит дважды, и лучше инвестировать сегодня, чем пытаться продать дешевеющий и теряющий популярность уголь завтра. Ведь Китай не просто так развивает свои технологии переработки угля — мы снова рискуем превратиться в сырьевой придаток. А пока эксперты пребывают в скепсисе и ищут альтернативные способы использования угля, время уходит. Неужели всё дело только в руководящей и направляющей роли коммунистической партии?
Экспертные мнения авторитетных специалистов о транспорте и логистике вы найдете в Telegram-канале медиаплатформы ВГУДОК — @Vgudok.PRO
Владимир Максимов, Оксана Войцеховская