Метафизическая
география угля
география угля
Кузбасс банкротится, а Якутия растёт: какому углю сегодня в России хорошо?
Угольная отрасль в России, потеряв поддержку в виде скидок на перевозки от РЖД и сбавившего обороты главного лоббиста в лице Сергея Цивилёва, перешедшего с должности главы Кузбасса на руководящий пост в Министерство энергетики, в последнее время катится под откос. Произошедшее — закономерный итог общемирового падения цен на уголь, который прогнозировался большинством адекватных экспертов, но к которому, как это обычно бывает, решили заранее не готовиться: все всё знали и понимали, но надеялись, что пронесёт. Не пронесло — и сейчас перед отраслью стоят очень серьёзные вопросы, решать которые старыми методами не получится.
Начать распутывать этот клубок стоит с самого начала: о каких вообще объёмах и цифрах мы говорим? Согласно Энергетической стратегии до 2050 года, представленной в середине апреля, общие запасы угля в России составляют 272,7 млрд тонн — этого хватит на 500 лет добычи. Страна занимает пятое место в мире по запасам и шестое по добыче (5% мировой добычи) угля. При этом на данный момент в российской угольной отрасли занято около 144,2 тыс. человек — 4% от общей занятости в топливно-энергетическом комплексе. Несмотря на все возможные экологические повестки, «чистую энергетику» и прочие «зелёные» темы, уголь остаётся одним из самых востребованных энергетических ресурсов в мире.
«За последние 11 лет потребление первичных энергетических ресурсов выросло на 14%, или до 20,3 млрд тонн условного топлива. Ключевую роль в мировой энергетике продолжают играть нефть (36,9%), газ (26,1%) и уголь (30%). <...> В 2012–2023 годах мировое потребление угля выросло на 7,9%, а его доля незначительно снизилась с 32% до 30%. В общем объёме выработки электроэнергии доля угля составляет порядка 36%, сократившись с начала 2000-х годов всего на 2%», — говорится в тексте Стратегии.
Начать распутывать этот клубок стоит с самого начала: о каких вообще объёмах и цифрах мы говорим? Согласно Энергетической стратегии до 2050 года, представленной в середине апреля, общие запасы угля в России составляют 272,7 млрд тонн — этого хватит на 500 лет добычи. Страна занимает пятое место в мире по запасам и шестое по добыче (5% мировой добычи) угля. При этом на данный момент в российской угольной отрасли занято около 144,2 тыс. человек — 4% от общей занятости в топливно-энергетическом комплексе. Несмотря на все возможные экологические повестки, «чистую энергетику» и прочие «зелёные» темы, уголь остаётся одним из самых востребованных энергетических ресурсов в мире.
«За последние 11 лет потребление первичных энергетических ресурсов выросло на 14%, или до 20,3 млрд тонн условного топлива. Ключевую роль в мировой энергетике продолжают играть нефть (36,9%), газ (26,1%) и уголь (30%). <...> В 2012–2023 годах мировое потребление угля выросло на 7,9%, а его доля незначительно снизилась с 32% до 30%. В общем объёме выработки электроэнергии доля угля составляет порядка 36%, сократившись с начала 2000-х годов всего на 2%», — говорится в тексте Стратегии.
Таким образом, спрос на уголь есть,
но почему-то российских производителей это не затрагивает
но почему-то российских производителей это не затрагивает
По крайней мере, не всех. Так, по данным Минэнерго, на грани банкротства находятся 27 российских угольных предприятий с общим объёмом добычи 40 млн тонн в год, у ещё 62 предприятий с общей добычей 126 млн тонн в год убыток «выше среднеотраслевого». Как подсчитали в ведомстве, в прошлом году в России было добыто 438,6 млн тонн угля (-0,2% к 2023-му), то есть на грани банкротства находятся предприятия, обеспечивающие около 9% добычи, в зоне риска — ещё 29%. Доля убыточных угольных компаний по итогам 2024 года составила 50%, а выручка отрасли упала на 19% год к году — до 1,8 трлн рублей.
Наиболее сложная ситуация сложилась в Кузбассе и Хакасии, где доля убыточных угольных компаний достигла 57,3% (34,8% в 2023 году), и 50% (в 2023 году их не было) соответственно. В Кемеровской области доходы угольных компаний снизились втрое — до 84,9 млрд рублей, в Хакасии — в 12 раз, до 1,4 млрд рублей. При этом девять предприятий на Кузбассе и два в Хакасии уже остановили работу.
По прогнозам Минэнерго, при отсутствии господдержки добыча угля в стране в 2025 году может снизиться на 9% к 2024 году — до 399,6 млн тонн, а экспорт — просесть на 15%, до 166,5 млн т. В 2024 году экспорт угля из России упал на 8% год к году — до 195,9 млн тонн. Сколько будет стоить всё и всех спасти? Общий объём по всем направлениям поддержки отрасли на 2025 год в Минэнерго оценили в 178 млрд рублей, и антикризисная программа всё ещё дорабатывается.
Наиболее сложная ситуация сложилась в Кузбассе и Хакасии, где доля убыточных угольных компаний достигла 57,3% (34,8% в 2023 году), и 50% (в 2023 году их не было) соответственно. В Кемеровской области доходы угольных компаний снизились втрое — до 84,9 млрд рублей, в Хакасии — в 12 раз, до 1,4 млрд рублей. При этом девять предприятий на Кузбассе и два в Хакасии уже остановили работу.
По прогнозам Минэнерго, при отсутствии господдержки добыча угля в стране в 2025 году может снизиться на 9% к 2024 году — до 399,6 млн тонн, а экспорт — просесть на 15%, до 166,5 млн т. В 2024 году экспорт угля из России упал на 8% год к году — до 195,9 млн тонн. Сколько будет стоить всё и всех спасти? Общий объём по всем направлениям поддержки отрасли на 2025 год в Минэнерго оценили в 178 млрд рублей, и антикризисная программа всё ещё дорабатывается.
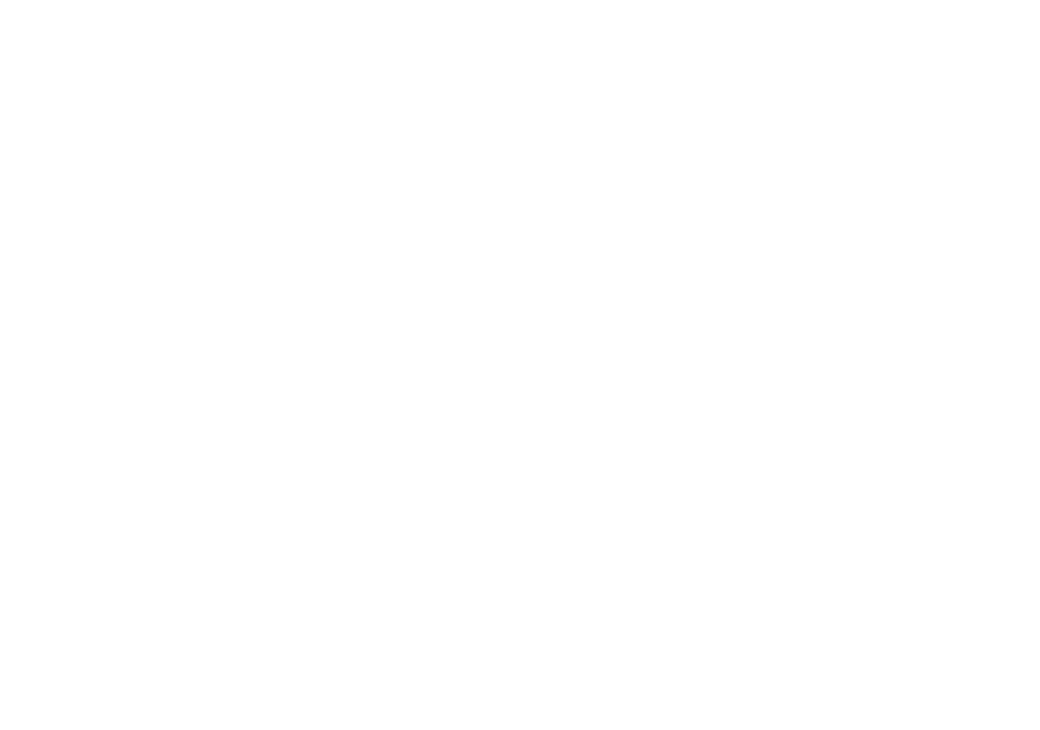
По словам эксперта по транспортной логистике Института экономики роста им. П.А. Столыпина, основателя проекта N.Trans LAB Марии Никитиной, ключевой вопрос сегодня не в том, сколько и каких угольщиков надо спасать, а в том, сколько времени займёт это спасение. Если речь идёт о 2–3 месяцах или полугодии, то это «могут быть инструменты кредитования, как бы нелепо это ни звучало в условиях текущих ставок». Или же применить возвратные госдотации и прочие варианты возмещаемой помощи. Если же пытаться спасать угольную отрасль на отрезке следующих 100 лет, вопреки, по мнению г-жи Никитиной, мировому прогрессу, то «тема приобретает совершенно другой ракурс, наверное, уже какой-то метафизический».
«Если говорить предметно, то все наши усилия в адрес угольной отрасли: помощь, дотации, субсидирование (а сейчас около 40% ж/д затрат угольной отрасли покрываются другими отраслями нашей экономики), и их дальнейшее наращивание могут оказаться выброшенными на ветер деньгами.
«Если говорить предметно, то все наши усилия в адрес угольной отрасли: помощь, дотации, субсидирование (а сейчас около 40% ж/д затрат угольной отрасли покрываются другими отраслями нашей экономики), и их дальнейшее наращивание могут оказаться выброшенными на ветер деньгами.
Их проще отдать шахтёрам, регионам, помочь в создании альтернативных бизнесов при условии, если мы не видим гарантий роста спроса/цен на уголь.
Второй вариант: поверить угольщикам, что спад спроса и цен на уголь — явление временное, и он конечен, а затем отрасль снова станет прибыльной. Кому, как не им, понимать в этом лучше других. Но тогда это становится нормальным бизнес-риском угольной отрасли, которая должна закредитоваться любым разумным способом, взяв на себя риски волатильности рынка и достоверности своих прогнозов», — отметила Мария Никитина.
Здесь стоит отметить, что Кузбасс — единственный регион, с которым РЖД заключила соглашение о гарантированном вывозе угля на экспорт в объёме 54,1 млн тонн. В прошлом году таких «счастливчиков было больше»: Хакасия, Бурятия, Якутия, Тува и Иркутская область. Несмотря на очевидные преференции добыча угля в Кемеровской области снижается: за январь-февраль 2025 года добыто 33,6 млн тонн угля, на 2,4% ниже аналогичного показателя 2024 года.
Так спасать или нет угольщиков? По мнению Марии Никитиной, в том случае, если кредиторами угля должны стать (через железнодорожный тариф) другие российские бизнесы, то, возможно, таким кредиторам угольного бизнеса стоит передать долю во владении и управлении угольными активами.
«А почему бы и нет, если угольщики берут у других бизнесов не взаймы, а привлекают их как соинвесторов. В мировой практике накоплен значительный опыт закрытия нерентабельной угледобычи — в Англии, Шотландии, США, Канаде, такие примеры есть и в России. Например, Кизеловский угольный бассейн (Пермский край), Мосбасс (Тульская область), «Интауголь» в г. Воркута (Республика Коми)», — говорит г-жа Никитина.
По её словам, есть в мировой и российской практике примеры диверсификации угольного бизнеса, создания углехимических производств и продуктов с более высокой добавленной стоимостью. Есть примеры и переориентации продаж на внутренний рынок. Но нельзя закрывать глаза и на то, что в случае с российским углепромом, когда около 20–30% угольного производства может оказаться невостребованным, потребуется более радикальная поддержка.
Здесь стоит отметить, что Кузбасс — единственный регион, с которым РЖД заключила соглашение о гарантированном вывозе угля на экспорт в объёме 54,1 млн тонн. В прошлом году таких «счастливчиков было больше»: Хакасия, Бурятия, Якутия, Тува и Иркутская область. Несмотря на очевидные преференции добыча угля в Кемеровской области снижается: за январь-февраль 2025 года добыто 33,6 млн тонн угля, на 2,4% ниже аналогичного показателя 2024 года.
Так спасать или нет угольщиков? По мнению Марии Никитиной, в том случае, если кредиторами угля должны стать (через железнодорожный тариф) другие российские бизнесы, то, возможно, таким кредиторам угольного бизнеса стоит передать долю во владении и управлении угольными активами.
«А почему бы и нет, если угольщики берут у других бизнесов не взаймы, а привлекают их как соинвесторов. В мировой практике накоплен значительный опыт закрытия нерентабельной угледобычи — в Англии, Шотландии, США, Канаде, такие примеры есть и в России. Например, Кизеловский угольный бассейн (Пермский край), Мосбасс (Тульская область), «Интауголь» в г. Воркута (Республика Коми)», — говорит г-жа Никитина.
По её словам, есть в мировой и российской практике примеры диверсификации угольного бизнеса, создания углехимических производств и продуктов с более высокой добавленной стоимостью. Есть примеры и переориентации продаж на внутренний рынок. Но нельзя закрывать глаза и на то, что в случае с российским углепромом, когда около 20–30% угольного производства может оказаться невостребованным, потребуется более радикальная поддержка.
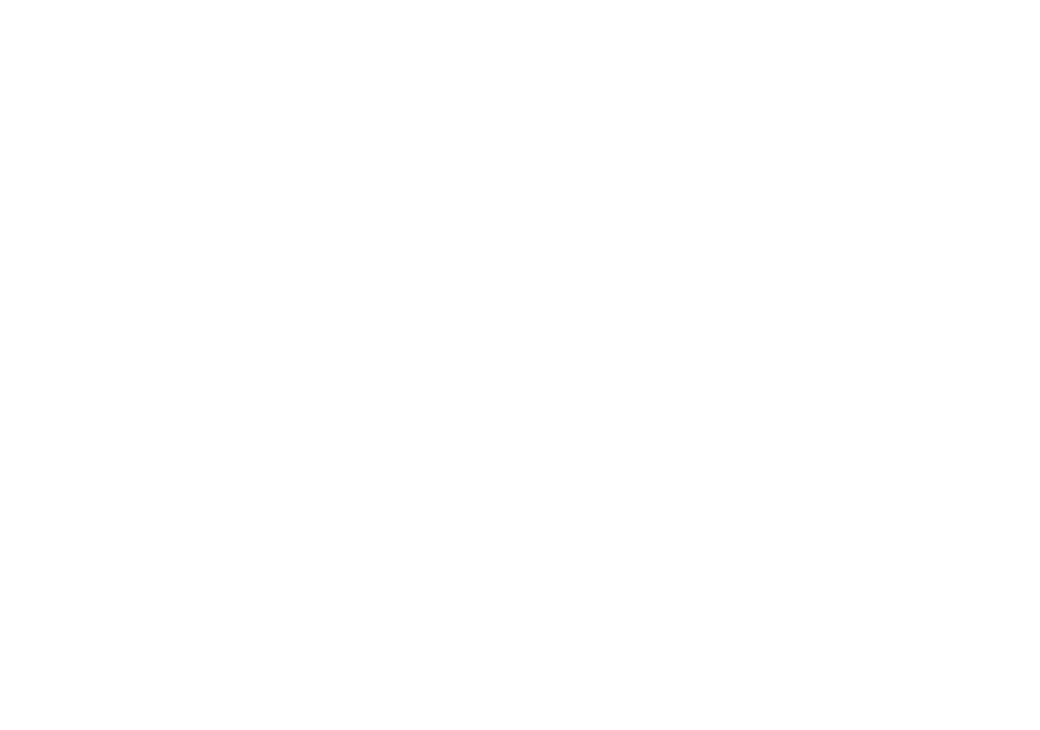
«Если коротко, речь о вахтенной работе шахтёров на более рентабельных шахтах/производствах, о раннем выходе на пенсию, о прямых дотациях высвободившимся работникам, о переобучении. О мерах, которые окажутся выгоднее, чем скинуться всем миром на спасение уже неживого бизнеса. Это всё равно, что цепляться за профессию "извозчик" в век самого расцвета автопрома», — добавила собеседница vgudok.com.
На этом депрессивном кемеровско-угольном фоне лучом света выглядит Якутия, с января по март 2025 года нарастившая добычу на 17% год к году — до 13,3 млн тонн, а объём обогащения — на 20%, до 8,4 млн тонн. Компании-лидеры в регионе: «Эльга», «Колмар» и «Якутуголь». И здесь дело не в низкой базе — в первом квартале 2024 года производство в регионе увеличилось на 33% (+55% за два года), а за пять лет республика увеличила добычу угля в 2,2 раза (на 21 млн тонн), планируя добыть 50 млн тонн в этом году с ростом до 80 млн тонн к 2030-му.
На этом депрессивном кемеровско-угольном фоне лучом света выглядит Якутия, с января по март 2025 года нарастившая добычу на 17% год к году — до 13,3 млн тонн, а объём обогащения — на 20%, до 8,4 млн тонн. Компании-лидеры в регионе: «Эльга», «Колмар» и «Якутуголь». И здесь дело не в низкой базе — в первом квартале 2024 года производство в регионе увеличилось на 33% (+55% за два года), а за пять лет республика увеличила добычу угля в 2,2 раза (на 21 млн тонн), планируя добыть 50 млн тонн в этом году с ростом до 80 млн тонн к 2030-му.
Пока одни угледобывающие регионы просят поддержки,
другие вполне себе сносно живут
другие вполне себе сносно живут
И это при том, что Тихоокеанская железная дорога пока не вышла на полную мощность, хотя первые 2 млн тонн по ТЖД уже вывезли. В чём секрет? Якутский уголь остаётся востребованным у покупателей из Азиатско-Тихоокеанского региона, во многом благодаря близким расстояниям. Именно поэтому якутские угольные компании ставят рекорды, строят и развивают новые объекты, железную дорогу, морские порты. То есть смерть угля в России и мире констатировать рано, но не все месторождения могут быть одинаковы успешны.
Цените своё время? Уверены, что качество имеет цену? У вас есть 1520 причин подписаться на премиальный Telegram-канал медиаплатформы ВГУДОК — @Vgudok.PRO
Цените своё время? Уверены, что качество имеет цену? У вас есть 1520 причин подписаться на премиальный Telegram-канал медиаплатформы ВГУДОК — @Vgudok.PRO
Владимир Максимов