Отрицательная энергия
Минэнерго предлагает всем миром спасать экспорт угля,
пока Минэк ищет деньги для РЖД
пока Минэк ищет деньги для РЖД
Экспортная цена угля упала, а курс рубля вырос за 4 месяцев на 25–30%. Сегодня продавать уголь внутри страны оказывается выгоднее, чем экспортировать, так как внутренние цены у нас падают очень редко (интересно, почему? Не картельный ли это сговор?). По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), в марте на экспорт ушло 16 млн тонн угля (–2% год к году), в целом за I квартал было отправлено 46,4 млн тонн, то есть на 2% выше аналогичных показателей прошлого года. Но не стоит очаровываться этой цифрой: рост здесь произошёл только за счёт низкой базы 2024-го. А вот относительно 2023 года падение экспортного потока составило все 15%. Контекст у падения объёмов соответствующий.
РЖД никогда не скрывали низкую маржинальность перевозок угля. Теперь же у монополии добавился новый (хотя сама проблема старая) аргумент против экспортёров твёрдого топлива. Из-за неисполнения ими согласованных заявок ГУ-12 РЖД не досчитались около 4,5 млн тонн в погрузке за первые три месяца года. В основном добывающие компании отказывались от одобренных заявок на перевозки в западном и южном направлениях.
Традиционно консервативные представители монополии даже начали использовать в своей речи игровой сленг, называя ситуацию «читерством» и подчёркивая, что за год объём таких сгоревших заявок вырос с 2% до 30%. РЖД призывают в 24 раза повысить штрафы за инфлированные заявки (когда грузоотправитель заявляет объём, которого фактически нет) на перевозки.
РЖД никогда не скрывали низкую маржинальность перевозок угля. Теперь же у монополии добавился новый (хотя сама проблема старая) аргумент против экспортёров твёрдого топлива. Из-за неисполнения ими согласованных заявок ГУ-12 РЖД не досчитались около 4,5 млн тонн в погрузке за первые три месяца года. В основном добывающие компании отказывались от одобренных заявок на перевозки в западном и южном направлениях.
Традиционно консервативные представители монополии даже начали использовать в своей речи игровой сленг, называя ситуацию «читерством» и подчёркивая, что за год объём таких сгоревших заявок вырос с 2% до 30%. РЖД призывают в 24 раза повысить штрафы за инфлированные заявки (когда грузоотправитель заявляет объём, которого фактически нет) на перевозки.
Ситуация станет ещё сложнее по итогам апреля
Март, как назвали его в беседе с Vgudok сами экспортёры, стал «кровавым». Дело в том, что до марта поставки шли по долгосрочным контрактам и формировались в конъюнктуре прошлых месяцев. Но уже с апреля на цифрах могут сказаться крепкий рубль, обвалившиеся цены на топливо и прочие факторы.
Что делать экспортёрам? Кажется, на этот вопрос могла бы ответить только что обнародованная Энергостратегия-2050. Но на деле, документ как будто создан в параллельной вселенной: по целевому сценарию экспорт должен вырасти с 212 млн тонн в 2023-м до 350 млн тонн, в 2030-м году необходимо экспортировать уже 266,7 млн тонн, в 2036 — более 320 млн. О том, какими маршрутами это должно уйти из страны, аналитики ведомства умалчивают. Логично, что при растущих добыче и экспорте нужно наращивать и объёмы провозных мощностей.
Что делать экспортёрам? Кажется, на этот вопрос могла бы ответить только что обнародованная Энергостратегия-2050. Но на деле, документ как будто создан в параллельной вселенной: по целевому сценарию экспорт должен вырасти с 212 млн тонн в 2023-м до 350 млн тонн, в 2030-м году необходимо экспортировать уже 266,7 млн тонн, в 2036 — более 320 млн. О том, какими маршрутами это должно уйти из страны, аналитики ведомства умалчивают. Логично, что при растущих добыче и экспорте нужно наращивать и объёмы провозных мощностей.
Но, например, на Восточном полигоне планов по такому масштабному расширению не было и, скорее всего, не будет. При этом сам груз с этого направления хотят перекинуть на альтернативные, заменив чем-то более маржинальным. На запад уголь ехать не хочет из-за минусовых нетбэков, юг загружен пассажирскими перевозками. Как же планируется наращивать перевозки?
«Что касается Энергостратегии-2050, то я думаю, что вопрос наращивания добычи и особенно экспорта крайне сложен, и неудивительно, что ответов на многие вопросы пока нет», — отметил в беседе с vgudok.com председатель Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.
«Что касается Энергостратегии-2050, то я думаю, что вопрос наращивания добычи и особенно экспорта крайне сложен, и неудивительно, что ответов на многие вопросы пока нет», — отметил в беседе с vgudok.com председатель Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.
Эксперт уверен, не всё сейчас зависит
от российских компаний и властей
от российских компаний и властей
«Если не изменится ситуация на мировых рынках, то и нет особой необходимости в наращивании добычи, а экспорт точно не вырастет, и поставлять уголь будет просто некуда. К тому же рост добычи подразумевает и рост расходов, а рост экспорта — увеличение нагрузки на логистику», — уверен наш собеседник.
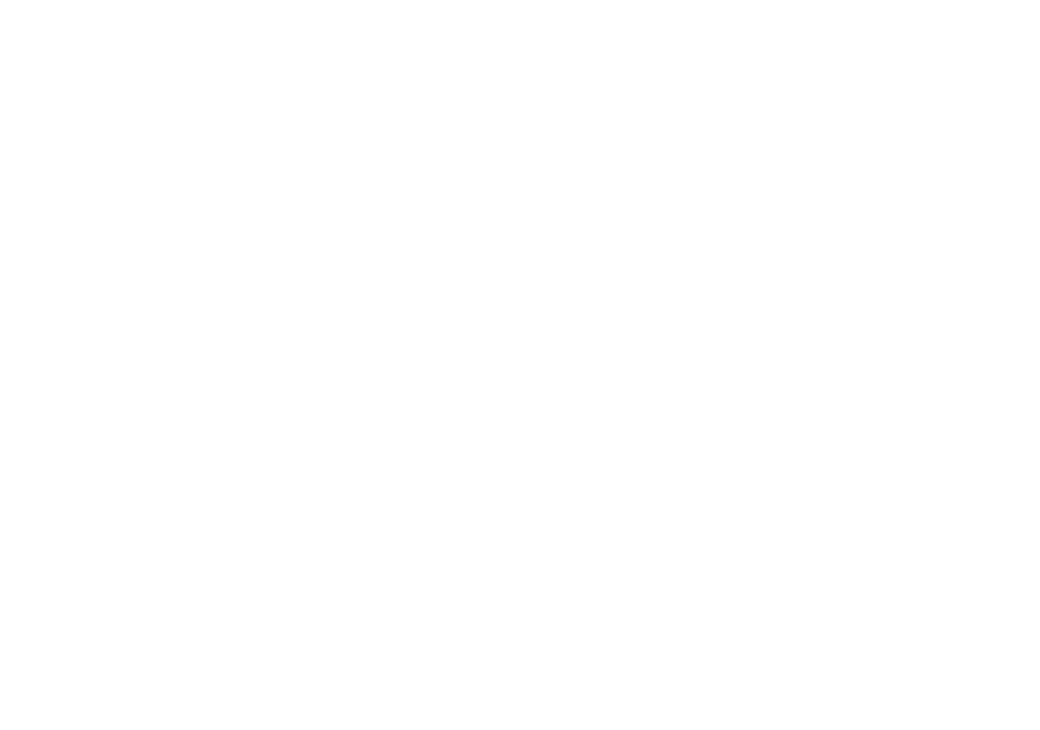
Источник: «Коммерсантъ»/ЦЦИ
Для того, чтобы увеличивать экспорт, очевидно нужны новые рынки сбыта. Имеющиеся в последнее время захлопываются перед российский углём один за другим. Например, отправки крупному покупателю российского топлива Турции в марте упали на 14% к февралю — всего 1,3 млн тонн.
Уже можно констатировать, что и возлагаемые на Индию надежды по сбыту российского угля потерпели крах. По данным Interocean, на которые ссылается Argus, в марте страна закупила из России 435,1 тысячи тонн энергоугля (–27% к февралю, и –20,8% к марту 2024-го). Такое снижение импорта объясняется ростом собственной добычи: за первый весенний месяц в Индии добыли 118,5 млн тонн — столько в России производят за квартал.
Пока что удаётся поддерживать стабильный объём поставок в Южную Корею (1,3 млн тонн в марте) и КНР (рост на 9% к февралю и на 5% год к году — до 8,6 млн тонн в марте).
Уже можно констатировать, что и возлагаемые на Индию надежды по сбыту российского угля потерпели крах. По данным Interocean, на которые ссылается Argus, в марте страна закупила из России 435,1 тысячи тонн энергоугля (–27% к февралю, и –20,8% к марту 2024-го). Такое снижение импорта объясняется ростом собственной добычи: за первый весенний месяц в Индии добыли 118,5 млн тонн — столько в России производят за квартал.
Пока что удаётся поддерживать стабильный объём поставок в Южную Корею (1,3 млн тонн в марте) и КНР (рост на 9% к февралю и на 5% год к году — до 8,6 млн тонн в марте).
Китай остаётся главным покупателем российского угля,
но, вопрос, надолго ли?
но, вопрос, надолго ли?
Дело в том, что обозначенные выше объёмы экспорта в Поднебесную отражают отгрузки по всё тем же долгосрочным контрактам, заключённым при прежнем валютном курсе и ценах выше $80 за тонну для энергетического угля калорийностью 6000 ккал. Ситуация с углём в Китае в целом довольна интересная: по данным Reuters, общий объём импортных закупок в марте в стране сократился на 6% из-за высоких запасов в портах и слабого внутреннего спроса, в результате — падение спотовых цен до четырёхлетних минимумов.
Объёмы импорта угля в Китай от ключевых поставщиков
в марте и в I квартале 2025 года
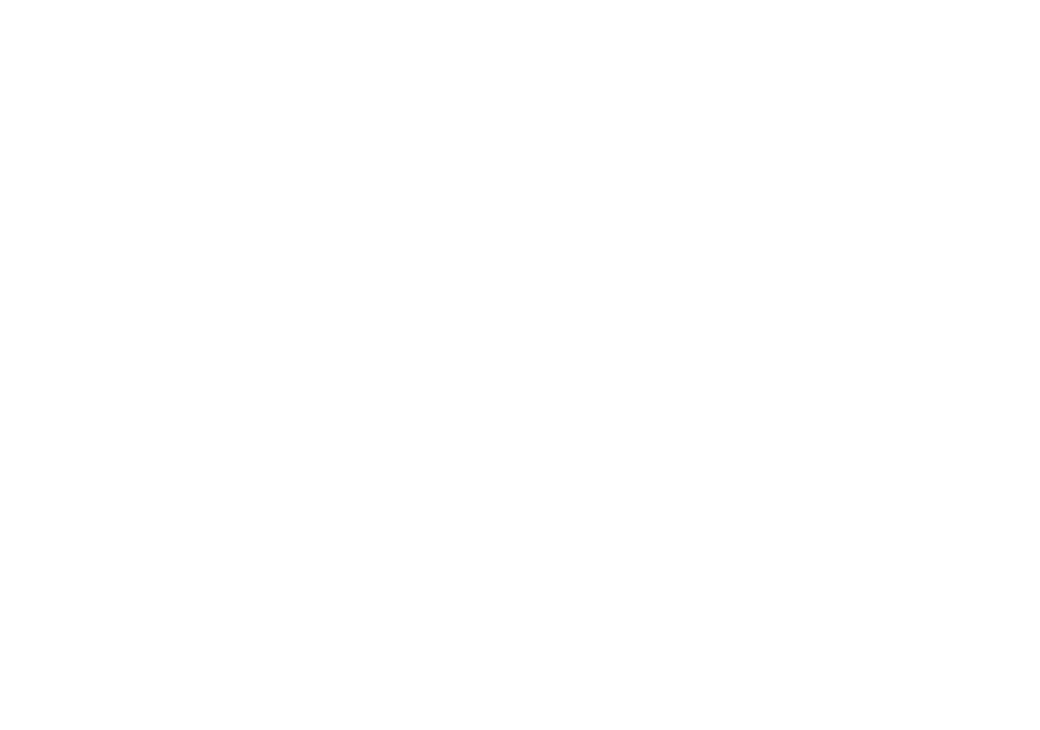
Источник: Reuters
Закупки Китаем угля в России выросли на 6% год к году (до 7,33 млн тонн), несмотря на все ограничения и санкции, показав и самый заметный рост за квартал на фоне конкурентов. Так, импорт в Китай из Индонезии сократился на 9%, до 17,96 млн тонн, после введения правительством Индонезии базовой минимальной цены на уголь с 1 марта. В России никаких базовых цен не будет: главное — вывезти; чем, скорее всего, и воспользуется Китай, ожидая скидок и преференций за свою «дружбу».
«Что касается экспорта в Китай, то, как мы видим, китайские партнёры пользуются ситуацией, в которой оказались российские экспортёры угля, хотят выгодные контракты по невысокой цене. Тут претензий в их адрес не должно быть — это рынок.
«Что касается экспорта в Китай, то, как мы видим, китайские партнёры пользуются ситуацией, в которой оказались российские экспортёры угля, хотят выгодные контракты по невысокой цене. Тут претензий в их адрес не должно быть — это рынок.
Они тоже знают мировую конъюнктуру,
имеют выгодные предложения от других поставщиков
имеют выгодные предложения от других поставщиков
К тому же стоит помнить, что мировая конъюнктура меняется, и тот же Китай, наш основной покупатель угля, держит курс на декарбонизацию экономики, уже через четыре года, к 2030 году, намерен выйти на пик выбросов CO2 к 2030 году и достичь углеродной нейтральности к 2060 году. То есть доля угля будет неуклонно сокращаться. И это значит, что особых перспектив для наращивания экспорта российского угля в Китай не будет», — сказал Виталий Манкевич.
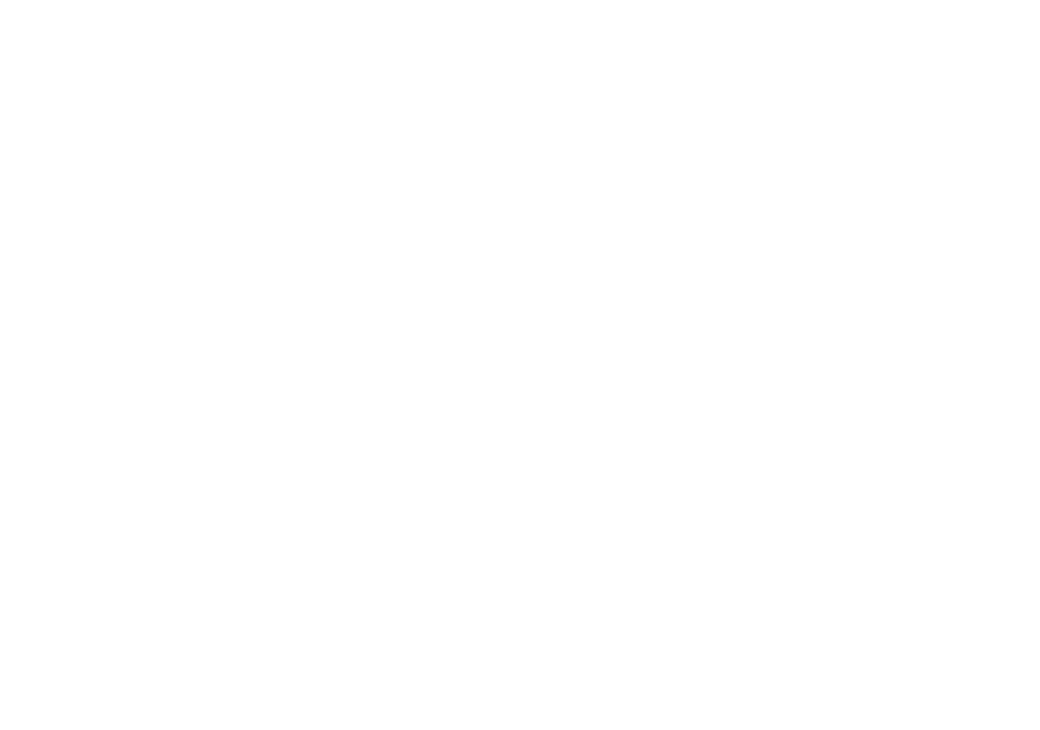
Источник: ЦЦИ
Для Китая вопрос декарбонизации — это не столько «мода» на всё «зелёное», сколько социальная и экологическая необходимость (смог в городах КНР и без того достигает рекордных значений). Но даже если отбросить ценовую политику или пресловутые стратегии ESG, ни Китаю, ни всем нашим угольным партнёрам вместе взятым столько угля, сколько планирует в Стратегии продать Минэнерго, попросту не нужно.
Однозначно снизит спрос на уголь и торговая война с США. Даже не начавшись, только угроза войны рушит фондовые рынки и промышленные прогнозы.
Кто виноват и что делать — извечные вопросы, на которые в ситуации с углём ответов пока нет. Очевидно, что крах отрасли коснётся не только шахт и их владельцев — катастрофа может быть куда более глобальной. По словам основателя проекта N.Trans Lab Марии Никитиной, на фоне падения спроса и снижения цен на российский уголь, часть логистической инфраструктуры становится невостребованной. Это, в частности, касается подвижного состава, портов и так далее. При этом спрос на угольные терминалы и подвижной состав во многом поддерживался искусственно.
«Порты нужны были угольщикам как инструмент выхода на экспортный рынок. Так, если у тебя не было своего порта или подтверждения от порта, ты не мог получить планы РЖД, а значит не имел доступа на экспортные рынки сбыта. Таким потенциалом воспользовались не только крупные угольные компании, создавая кэптивные порты (Восточный, или «Дальтрансуголь»), но и частные инвесторы-стивидоры (порт Лавна или ОТЭКО).
Однозначно снизит спрос на уголь и торговая война с США. Даже не начавшись, только угроза войны рушит фондовые рынки и промышленные прогнозы.
Кто виноват и что делать — извечные вопросы, на которые в ситуации с углём ответов пока нет. Очевидно, что крах отрасли коснётся не только шахт и их владельцев — катастрофа может быть куда более глобальной. По словам основателя проекта N.Trans Lab Марии Никитиной, на фоне падения спроса и снижения цен на российский уголь, часть логистической инфраструктуры становится невостребованной. Это, в частности, касается подвижного состава, портов и так далее. При этом спрос на угольные терминалы и подвижной состав во многом поддерживался искусственно.
«Порты нужны были угольщикам как инструмент выхода на экспортный рынок. Так, если у тебя не было своего порта или подтверждения от порта, ты не мог получить планы РЖД, а значит не имел доступа на экспортные рынки сбыта. Таким потенциалом воспользовались не только крупные угольные компании, создавая кэптивные порты (Восточный, или «Дальтрансуголь»), но и частные инвесторы-стивидоры (порт Лавна или ОТЭКО).
Снижение спроса на уголь усугубляет
проблему профицита портовых мощностей
проблему профицита портовых мощностей
А на фоне высоких ставок кредитования и относительной новизны угольных терминалов, типа порта Лавна, их финансовое состояние сегодня явно не самое благополучное», — отметила в беседе с vgudok.com г-жа Никитина.
По её словам, это касается и вагонного парка. И сегодня мы видим 150–400 тысяч лишних вагонов, а это очевидные убытки собственников и операторов. Невостребованные портовые мощности можно отчасти загрузить экспортной продукцией, спрос на которую растёт. Это однозначно удобрения, показавшие рост погрузки по ж/д за январь-март 2025 года в 7,6%, а также зерно и лесные грузы.
«Хотя это, конечно, несопоставимые объёмы, особенно с учётом понастроенного заведомо профицита угольных терминалов. Плюс уголь высвобождает в первую очередь северо-запад и юг, а большинство премиальных рынков для нашего экспорта сейчас на востоке. Потери самих угольщиков в текущей ситуации трудно оценивать объективно, если смотреть за январь-март 2025 года, то это будут реальные потери для ряда шахт и разрезов, а если за январь 2022 — март 2025, то, наоборот, прибыль», — отметила г-жа Никитина.
Несмотря на то, что в марте 2025 года весь экспорт угля из портов Дальнего Востока вырос на 24% к февралю и на 9% год к году — до 9,8 млн тонн (прирост был обеспечен портами Ванино — 2,6 млн тонн, +37% год к году, Вера — 0,8 млн тонн, +15%, Суходол — 0,8 млн тонн, +128%), общая картина по прошлому году выглядит депрессивной. Так, в I квартале, по данным консалтинговой компании «Технологии доверия», нетбэк при поставках энергоугля из Кузбасса до восточных портов составляет 259 рублей за тонну. Меньше, чем полгода назад нетбэк держался на уровне плюс 1715 рублей за тонну.
По её словам, это касается и вагонного парка. И сегодня мы видим 150–400 тысяч лишних вагонов, а это очевидные убытки собственников и операторов. Невостребованные портовые мощности можно отчасти загрузить экспортной продукцией, спрос на которую растёт. Это однозначно удобрения, показавшие рост погрузки по ж/д за январь-март 2025 года в 7,6%, а также зерно и лесные грузы.
«Хотя это, конечно, несопоставимые объёмы, особенно с учётом понастроенного заведомо профицита угольных терминалов. Плюс уголь высвобождает в первую очередь северо-запад и юг, а большинство премиальных рынков для нашего экспорта сейчас на востоке. Потери самих угольщиков в текущей ситуации трудно оценивать объективно, если смотреть за январь-март 2025 года, то это будут реальные потери для ряда шахт и разрезов, а если за январь 2022 — март 2025, то, наоборот, прибыль», — отметила г-жа Никитина.
Несмотря на то, что в марте 2025 года весь экспорт угля из портов Дальнего Востока вырос на 24% к февралю и на 9% год к году — до 9,8 млн тонн (прирост был обеспечен портами Ванино — 2,6 млн тонн, +37% год к году, Вера — 0,8 млн тонн, +15%, Суходол — 0,8 млн тонн, +128%), общая картина по прошлому году выглядит депрессивной. Так, в I квартале, по данным консалтинговой компании «Технологии доверия», нетбэк при поставках энергоугля из Кузбасса до восточных портов составляет 259 рублей за тонну. Меньше, чем полгода назад нетбэк держался на уровне плюс 1715 рублей за тонну.
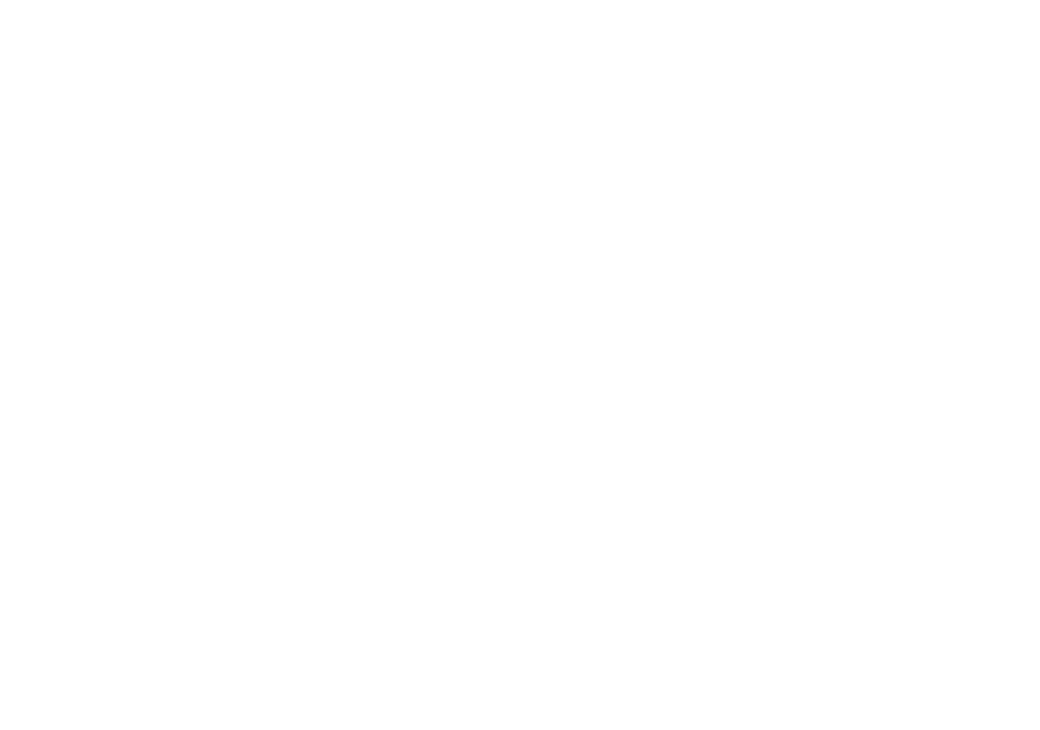
Причины негативной динамики всё те же: снижение мировых цен на уголь и укрепление рубля. Мировые котировки на уголь снизились на 10% (в рублях — на 30%), а курс доллара упал на 19%, достигнув 82,4 руб./$ к 24 апреля. Несмотря на снижение логистических расходов (стоимость доставки из Кузбасса в Китай упала на 11% до 6634 рублей за тонну), большинство поставок ушли в минус. Аналитики отмечают, что более 80% экспорта угля, включая коксующийся, оказались убыточными. Поставки коксующегося угля, в отличие от энергетического, пока сохраняют прибыльность: нетбэк варьируется от $27/т до $69/т в зависимости от порта.
По словам директора Центра экономики транспорта НИУ ВШЭ Татьяны Кулаковой, в морских портах в 2024 году перевалка угля сократилась впервые с 2019 года. Его доля в общей перевалке составляет 21,2%, и на морских угольных терминалах отмечается существенный профицит мощностей. В прошлом году Россия экспортировала 196,2 млн тонн угля, при этом 90,5% этого объёма было направлено по сети РЖД. В целом, напоминает г-жа Кулакова, для монополии уголь составляет 28,1% погрузки, и его очень сложно заместить другими грузами по весу.
«В таких объёмах больше ничего не возят. Остальные грузы могут приносить большую доходность для РЖД, но они небольшого веса. Транспортный спрос является производным спросом, сама по себе перевозка грузов не является самоцелью, поэтому при прогнозировании показателей транспортного комплекса сначала строятся прогнозы развития экономики, в нашем случае добычи и экспорта угля. Следовательно, если произойдёт существенное сокращение добычи и экспорта угля, это негативно повлияет на загрузку транспортной инфраструктуры», — говорит Татьяна Кулакова.
Уже сейчас можно задать вопрос о том, правильно ли, что развитие транспортной инфраструктуры (например, Восточного полигона) в России основано на прогнозе роста российского экспорта угля. В КНР рост своего спроса на уголь прогнозируют только до 2027 года, а затем выход на плато и его сокращение.
«Окупятся ли в будущем инвестиции, которые вкладываются сейчас в развитие российской транспортной инфраструктуры для перевозки угля? Или надо эти средства вкладывать в другие транспортные проекты? Ответ на этот вопрос неочевиден», — отметила в беседе с vgudok.com Татьяна Кулакова.
Причин сокращения экспорта угля называют несколько: проблемы с железнодорожной инфраструктурой, сложности с доступом нового и порожнего парка на сеть, сокращение мировых цен и введение импортных пошлин КНР. К этому стоит добавить и мировой тренд на возобновляемый источник энергии, на которые, напомним, собирается переходить и Минэнерго.
По словам директора Центра экономики транспорта НИУ ВШЭ Татьяны Кулаковой, в морских портах в 2024 году перевалка угля сократилась впервые с 2019 года. Его доля в общей перевалке составляет 21,2%, и на морских угольных терминалах отмечается существенный профицит мощностей. В прошлом году Россия экспортировала 196,2 млн тонн угля, при этом 90,5% этого объёма было направлено по сети РЖД. В целом, напоминает г-жа Кулакова, для монополии уголь составляет 28,1% погрузки, и его очень сложно заместить другими грузами по весу.
«В таких объёмах больше ничего не возят. Остальные грузы могут приносить большую доходность для РЖД, но они небольшого веса. Транспортный спрос является производным спросом, сама по себе перевозка грузов не является самоцелью, поэтому при прогнозировании показателей транспортного комплекса сначала строятся прогнозы развития экономики, в нашем случае добычи и экспорта угля. Следовательно, если произойдёт существенное сокращение добычи и экспорта угля, это негативно повлияет на загрузку транспортной инфраструктуры», — говорит Татьяна Кулакова.
Уже сейчас можно задать вопрос о том, правильно ли, что развитие транспортной инфраструктуры (например, Восточного полигона) в России основано на прогнозе роста российского экспорта угля. В КНР рост своего спроса на уголь прогнозируют только до 2027 года, а затем выход на плато и его сокращение.
«Окупятся ли в будущем инвестиции, которые вкладываются сейчас в развитие российской транспортной инфраструктуры для перевозки угля? Или надо эти средства вкладывать в другие транспортные проекты? Ответ на этот вопрос неочевиден», — отметила в беседе с vgudok.com Татьяна Кулакова.
Причин сокращения экспорта угля называют несколько: проблемы с железнодорожной инфраструктурой, сложности с доступом нового и порожнего парка на сеть, сокращение мировых цен и введение импортных пошлин КНР. К этому стоит добавить и мировой тренд на возобновляемый источник энергии, на которые, напомним, собирается переходить и Минэнерго.
В Стратегии это отражено — как и риски для падения
даже внутреннего спроса на российский уголь
даже внутреннего спроса на российский уголь
Случится ли радикальное реформирование отрасли и обучение работников новым специальностям или просто «всех уволят, а шахты закроют», или будет налажен выпуск продукции глубокой переработки угля — не знает на данный момент никто.
«Что касается реформирования такой серьёзной отрасли в новой реальности, то конечно, это должно происходить под руководством государства. Я думаю, что первый и самый целесообразный шаг — это наладить диалог между всеми представителями отрасли, между государством, между бизнесом, между логистами, между регионами, возможно, с привлечением представителей стран — традиционных покупателей нашего угля», — сказал Виталий Манкевич.
Действительно, диалога сейчас особенно не хватает. Взаимный обмен информационными бомбами в СМИ не в счёт. Так, в Министерстве экономического развития проводят серию совещаний с заинтересованными ведомствами и грузоотправителями о пересмотре индивидуальных тарифных правил для ж/д перевозок.
Одно из последних совещаний, например, было посвящено алюминию, где была озвучена идея о возможности пересмотра существующих тарифов через сближения друг с другом тарифов для глинозёма (I класс, дотационный для РЖД) и алюминия (III класс, профицитный) на том основании, что оба находятся в единой производственной цепочке. Наши читатели наверняка с первого раза догадаются, сколько представителей рынка алюминия было на этой встрече. Ни одного. Зато позвали угольщиков, из чего у многих сложилось ощущение, что Минэк пытается найти источники дополнительных доходов для РЖД на случай, если углю всё-таки вернут скидки на перевозки. Всё это — попытка заткнуть дыру в плотине пальцем маленького мальчика, нужны совсем другие решения.
Хотите получать актуальный, компетентный и полезный контент в режиме 24/7/365 — подписывайтесь на Telegram-канал медиаплатформы ВГУДОК — @Vgudok.PRO
«Что касается реформирования такой серьёзной отрасли в новой реальности, то конечно, это должно происходить под руководством государства. Я думаю, что первый и самый целесообразный шаг — это наладить диалог между всеми представителями отрасли, между государством, между бизнесом, между логистами, между регионами, возможно, с привлечением представителей стран — традиционных покупателей нашего угля», — сказал Виталий Манкевич.
Действительно, диалога сейчас особенно не хватает. Взаимный обмен информационными бомбами в СМИ не в счёт. Так, в Министерстве экономического развития проводят серию совещаний с заинтересованными ведомствами и грузоотправителями о пересмотре индивидуальных тарифных правил для ж/д перевозок.
Одно из последних совещаний, например, было посвящено алюминию, где была озвучена идея о возможности пересмотра существующих тарифов через сближения друг с другом тарифов для глинозёма (I класс, дотационный для РЖД) и алюминия (III класс, профицитный) на том основании, что оба находятся в единой производственной цепочке. Наши читатели наверняка с первого раза догадаются, сколько представителей рынка алюминия было на этой встрече. Ни одного. Зато позвали угольщиков, из чего у многих сложилось ощущение, что Минэк пытается найти источники дополнительных доходов для РЖД на случай, если углю всё-таки вернут скидки на перевозки. Всё это — попытка заткнуть дыру в плотине пальцем маленького мальчика, нужны совсем другие решения.
Хотите получать актуальный, компетентный и полезный контент в режиме 24/7/365 — подписывайтесь на Telegram-канал медиаплатформы ВГУДОК — @Vgudok.PRO
Владимир Максимов